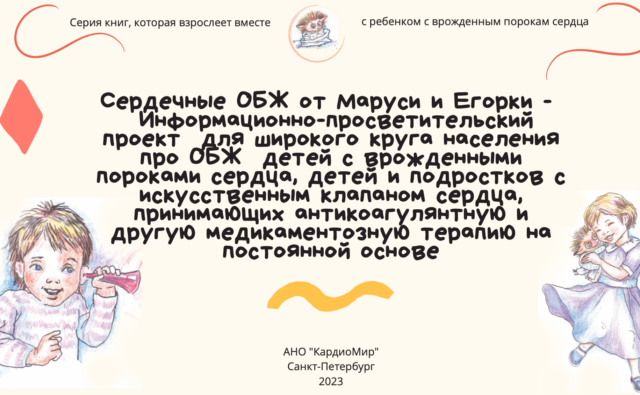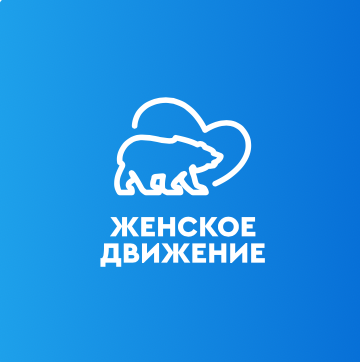Учредитель АНО «Кардиомама.РУ»
Кардиомама.
Меня часто спрашивают – что тебя держит на Кардиомаме? Что вообще держит таких как я – родителей, чьи дети перенесли радикальную коррекцию одного из самых рядовых пороков, давно сняты с инвалидности и могли бы забыть эту тему как страшный сон?
Держит то, что мы теперь другие. Мы не умеем закрывать глаза и уши на чужую боль. Мы не можем пройти мимо, потому что знаем, что это такое. Знаем изнутри. Наш мозг теперь работает таким образом, что любое упоминание сердечных проблем у детей моментально вырабатывает алгоритм действий. И этим алгоритмом мы не можем не делиться с теми, кому это нужно. А еще на Кардиомаме мы обрели семью, самых близких людей.
Сегодня наша «лайтовая» история.
Саня родился в День восстания декабристов. «Хороший мальчик», — констатировала акушерка.
На второй день пришла педиатр, чтобы рассказать нам шестерым, лежащим в палате, о детях. Каждой было сказано, что все хорошо, как изменился за день вес ребенка, пока очередь не дошла до меня. «У вашего шумы в сердце». На мой вопрос: «Что это может быть?», врач ответила: «В худшем случае порок». Следующие дни прошли в слезах. Когда всем приносили кормить детей, я уходила из палаты, с опухшими красными глазами бродила по роддому и терроризировала каждого попавшегося мне врача: послушайте моего ребенка!
На четвертый день за Саней приехала скорая, чтобы отвезти его в кардиологию 67-ой больницы, и меня позвали его проводить. Его по-советски туго запеленали, завернули в казенное одеялко… Потом я стояла у окна и смотрела, как его увозят. И это было самое щемящие и самое тоскливое чувство из тех, которые я когда-либо испытывала. Снова рыдала, конечно.
Я заставила врачей себя выписать и поехала к нему. Меня шатало, руки были синие от роддомовских уколов (и я даже заготовила речь для милиционеров в метро на случай, если меня примут в таком состоянии), но ничего важнее, чем быть рядом с ним, у меня уже не было.
Порок подтвердился. ДМЖП, ОАП, ООО (это я сейчас произношу сашкин диагноз с некоторым стеснением, а тогда он мне казался самым страшным и ужасным на свете). Мне разрешили посмотреть на него через стекло. По щекам текли слезы, а врач сказала мне тогда: «Сегодня разрешаю вам поплакать, а потом – нельзя. Уже завтра вы поймете, что ничего особенного не произошло, просто ваш ребенок именно такой».
Дальше был непростой год жизни перед операцией. Сначала недостаточность и дигоксин. Я все время слушала его дыхание во сне. Научилась перекладывать санино дыхание на время без секундомера. Вдох-выдох… вдох-выдох… что-то часто. Не спать! Считать!
И пульс – давать или не давать дигоксин. Фуф, отменили дигоксин.
В 3 месяца температура, плохой анализ. На скорой в инфекционку с подозрением на пиелонефрит. Положили в четверг, а УЗИ, сказали, сделают только во вторник. Негодую:
– А что мы будем делать до вторника?
– Лечиться!
– Чего лечить-то?
– Пиелонефрит.
– А если это не пиелонефрит?
– Раньше вторника УЗИ сделать не можем – очередь.
– Тогда мы поедем в другую больницу!!!
Скандальной мамаше вызвали заведующую, потом другого врача, которая выслушала хрипы и послала на рентген. Диагноз: двусторонняя пневмония. Вылечили.
В полгода опять встает вопрос об операции, и мы едем в Бакулева. Рентген показывает усиление легочного рисунка. Собрали анализы, назначили дату и… опять больница. Грипп. Из больницы привозим ротовирус. Потом приходили в себя, снова анализы, приехали на госпитализацию – жесткое дыхание – опять не взяли. Дальше кашель, кашель, кашель…и все откладывалось. Как страшно ждать…
В итоге госпитализировались, когда Сане почти исполнился год.
Подготовка к операции. Пить нельзя, есть нельзя. В положенное время начал требовать еды. Сделали 2 успокоительных укола, сказали, сейчас заснет. Как бы не так, обратная реакция – перевозбудился и кричал, не переставая. Всю ночь я носила его на руках по темному этажу, как акын рассказывала про то, что видела, только бы не молчать. А у самой на душе одна мысль: как же он у меня завтра такой измученный и ослабленный на операцию пойдет… заснул около 5 утра, а в 6 уже пора вставать. Дальше капельницы, лед от температуры (температура от обезвоживания). Привязали. Он кричит, извивается. В палате телевизор, судорожно ищу по всем каналам рекламу, чтобы хоть немножечко его отвлечь, а ее, заразы, нет нигде. Заходит медсестра: скоро заберем. А у меня мысль проскакивает: схватить, прижать к себе и убежать.
Пришли за ним. А он такой уже замученный, опухший. Реву. Понимаю, что нельзя. Надо собраться. Он все чувствует. Заходит нянечка: чего ревешь, все будет хорошо! И вдруг полегчало… Я поняла, что сделала все, что могла, теперь осталось просить того…другого…
Потом ждать. 4 часа мы с другой мамой, ребенку которой тоже делали операцию, сидели в комнате. Мы разговаривали об отвлеченных вещах. Как будто ничего такого не происходило. Мозг как будто ушел в режим энергосбережения.
Доктор вернулся из операционной. Бегу. На ходу теряю больничный тапочек, но не замечаю этого. Дверь. Поднимает глаза и улыбается. Значит все-все хорошо.
Потом было много всего. Воевала с неврологами, которые пророчили, что он никогда не будет говорить. Воевала с воспитателями в саду, которые считали его отстающим в развитии. Воевала с поликлиничным кардиологом, которая могла прочесть только по слогам выписку из Бакулева, но искала и искала у него несуществующие патологии.
Сейчас Сане 12. Он учится в 6 классе физмат лицея и хочет стать конструктором самолетов в Boeing. И он классный. Объективно:)
Ирина Калашникова (Iris), кардиомама.